-
![[image]](https://www.balancer.ru/cache/images/forums/logos/1299/128x128-crop/1299930-cairo-_gizeh-_sphinx_and_pyramid_of_khufu-_egypt-_oct_2004.jpg)
Численность римского легиона
Теги:
Дима
новичок
Сколько человек было в римском легионе?
В учебнике сестры написано, что 6000. В энциклопедии я прочитал, что 5000, а Яндекс говорит, что даже 12000.
В учебнике сестры написано, что 6000. В энциклопедии я прочитал, что 5000, а Яндекс говорит, что даже 12000.
Дима>Сколько человек было в римском легионе?
Дима>В учебнике сестры написано, что 6000. В энциклопедии я прочитал, что 5000, а Яндекс говорит, что даже 12000.
Постараюсь ответить 24 марта, книга дома, а компьютер на работе. А вообще, численность и структура сильно менялись. Ты посмотри, сколько существовала Римская империя ( а до нее еще и республика). Если можно, напиши до примерно 10 утра 24 марта, насколько подробные данные тебе нужны, т.к. книга толстая, называется кажется "Армии древней Греции и Рима" и набирать ее всю на компьютере мне не охота
Дима>В учебнике сестры написано, что 6000. В энциклопедии я прочитал, что 5000, а Яндекс говорит, что даже 12000.
Постараюсь ответить 24 марта, книга дома, а компьютер на работе. А вообще, численность и структура сильно менялись. Ты посмотри, сколько существовала Римская империя ( а до нее еще и республика). Если можно, напиши до примерно 10 утра 24 марта, насколько подробные данные тебе нужны, т.к. книга толстая, называется кажется "Армии древней Греции и Рима" и набирать ее всю на компьютере мне не охота

Дима
новичок
Я хочу узнать, сколько человек есть в нем - пеших и конных.
Я имею ввиду период завоевания Апеннинского полуострова римлянами в периоде 343-266 г. пр. н. э.
Спасибо Вам!
Я имею ввиду период завоевания Апеннинского полуострова римлянами в периоде 343-266 г. пр. н. э.
Спасибо Вам!
Примерно в 350 г до н.э. легион состоял из 3 частей:
1. Передняя линия тяжелой пехоты (молодые воины)из 15 манипулов примерно по 60 человек. Один манипул равен 2 центуриям. Всего получается 900 тяжелых пехотинцев + командиры, знаменосцы, горнисты. Кроме того, каждому из манипулов этой передней линии придавалось по 20 легковооруженных воинов. Это еще 300 человек.
2. Средняя линия тяжелой пехоты (сливки армии - воины в самом расцвете сил) из 15 манипулов. Аналогично передней линии, только нет легкой пехоты.
3. Задняя линия состоит из 15 рядов, каждый из которых делится на 3 части:
а) впереди ветераны
б) за ними молодые воины
в) наименее надежные солдаты
В каждом из рядов 186 человек (60 ветеранов+60 молодых+60 остальных + 6 командиров). Всего в задней линии примерно 2800 человек.
Итого получается 900+300+900+2800+командиры,горнисты,знаменосцы = 5000 человек. Кавалерии в легионе не было.
Примерно в 150г. до н.э. Легион состоял из 4200 пехотинцев:
1. 1200 легких воинов (наиболее молодые и бедные люди)
2. 1200 тяжелых пехотинцев первой линии (молодеж)- 10 манипулов
3. 1200 тяжелых пехотинцев второй линии (люди в полном расцвете сил)- 10 манипулов
4. 600 тяжелых пехотинцев третьей линии (ветераны)-10 манипулов
Легкие воины по 40 человек были рспределены межды этими 30 манипулами тяжелой пехоты.
По одному манипулу тяжелой пехоты первой линии + второй линии + третьей линии могли образовывать когорту (300 тяжелых и 120 легких пехотинцев). Итого в легионе 10 когорт. Но основной единицей считалась манипула.
В разных исторических источниках говорится, что:
а) в случае опасного положения легион увеличивался до 5000 человек.
б) Легион состоял из 4000 пеших и 200 конных человек, а в случае опасного положения увеличивался до 5000 пеших и 300 конных. 300 всадников были разделены на 10 турм по 30 человек.
Кроме того, надо сказать, что речь шла о легионе, полностью состоящем из римских граждан. А воевал Рим обычно при поддержке союзников, которые формировали отряды в 4000-5000 человек пехоты и 900 всадников. К каждому легиону приписывался один такой отряд, так что под словом "легион" следует понимать и боевую единицу примерно в 10000 пехотинцев и 1200 всадников.
В период с 140г. до н.э. по 50г. н.э. произошли следующие изменения: Манипулы тяжелых пехотинцев-ветеранов увеличились по численности также до 120 человек (с 60 человек). Теперь в кажой манипуле 120 тяжелых и 40 легких пехотинцев + командиры, горнисты, знаменосцы = примерно 500 человек в когорте. В каждой манипуле по прежнему 2 центурии. Всего в легионе 30 манипул или 10 когорт. Но основной единицей стала уже когорта.
В период с 50г. н.э. по 200г. н.э. легион состоял из 10 когорт. Первая когорта имела 5 центурий примерно по 160 человек. Остальные 9 когорт имели по 6 центурий примерно по 80 человек.
Кроме того, в легионе был конный отряд из 120 всадников.
Общая численность легиона примерно 5500 человек.
1. Передняя линия тяжелой пехоты (молодые воины)из 15 манипулов примерно по 60 человек. Один манипул равен 2 центуриям. Всего получается 900 тяжелых пехотинцев + командиры, знаменосцы, горнисты. Кроме того, каждому из манипулов этой передней линии придавалось по 20 легковооруженных воинов. Это еще 300 человек.
2. Средняя линия тяжелой пехоты (сливки армии - воины в самом расцвете сил) из 15 манипулов. Аналогично передней линии, только нет легкой пехоты.
3. Задняя линия состоит из 15 рядов, каждый из которых делится на 3 части:
а) впереди ветераны
б) за ними молодые воины
в) наименее надежные солдаты
В каждом из рядов 186 человек (60 ветеранов+60 молодых+60 остальных + 6 командиров). Всего в задней линии примерно 2800 человек.
Итого получается 900+300+900+2800+командиры,горнисты,знаменосцы = 5000 человек. Кавалерии в легионе не было.
Примерно в 150г. до н.э. Легион состоял из 4200 пехотинцев:
1. 1200 легких воинов (наиболее молодые и бедные люди)
2. 1200 тяжелых пехотинцев первой линии (молодеж)- 10 манипулов
3. 1200 тяжелых пехотинцев второй линии (люди в полном расцвете сил)- 10 манипулов
4. 600 тяжелых пехотинцев третьей линии (ветераны)-10 манипулов
Легкие воины по 40 человек были рспределены межды этими 30 манипулами тяжелой пехоты.
По одному манипулу тяжелой пехоты первой линии + второй линии + третьей линии могли образовывать когорту (300 тяжелых и 120 легких пехотинцев). Итого в легионе 10 когорт. Но основной единицей считалась манипула.
В разных исторических источниках говорится, что:
а) в случае опасного положения легион увеличивался до 5000 человек.
б) Легион состоял из 4000 пеших и 200 конных человек, а в случае опасного положения увеличивался до 5000 пеших и 300 конных. 300 всадников были разделены на 10 турм по 30 человек.
Кроме того, надо сказать, что речь шла о легионе, полностью состоящем из римских граждан. А воевал Рим обычно при поддержке союзников, которые формировали отряды в 4000-5000 человек пехоты и 900 всадников. К каждому легиону приписывался один такой отряд, так что под словом "легион" следует понимать и боевую единицу примерно в 10000 пехотинцев и 1200 всадников.
В период с 140г. до н.э. по 50г. н.э. произошли следующие изменения: Манипулы тяжелых пехотинцев-ветеранов увеличились по численности также до 120 человек (с 60 человек). Теперь в кажой манипуле 120 тяжелых и 40 легких пехотинцев + командиры, горнисты, знаменосцы = примерно 500 человек в когорте. В каждой манипуле по прежнему 2 центурии. Всего в легионе 30 манипул или 10 когорт. Но основной единицей стала уже когорта.
В период с 50г. н.э. по 200г. н.э. легион состоял из 10 когорт. Первая когорта имела 5 центурий примерно по 160 человек. Остальные 9 когорт имели по 6 центурий примерно по 80 человек.
Кроме того, в легионе был конный отряд из 120 всадников.
Общая численность легиона примерно 5500 человек.
Drakonid
втянувшийся
Численность легиона варировалась. минимальная планка - 4500 человек, а максимальная до 16 тысяч доходила. еще важно, где находился легион, в какой области империи. одними из самых массовых были британские легионы - минимум 10000 челов.
Маленькая поправка к Короткову:
В то время штатов как таковых не было, легионы формировались по традиции. Поэтому часто были отклонения.
Например, при Цезаре легионы в Испании были легче (ниже доля тяжелой пехоты) и больше (больше вестариев, если не ошибаюсь - давно читал). Легионы же в Палестине были просто маленькими - до 3-4 тысяч. Для эффекта - чтоб враги боялись, на каждом углу по легиону.
Теперь о кавалерии: ее доля в легионе постоянно росла с нуля до четверти всего состава. И, абсолютно верно, за счет союзников - патриции воевали отдельно.
В то время штатов как таковых не было, легионы формировались по традиции. Поэтому часто были отклонения.
Например, при Цезаре легионы в Испании были легче (ниже доля тяжелой пехоты) и больше (больше вестариев, если не ошибаюсь - давно читал). Легионы же в Палестине были просто маленькими - до 3-4 тысяч. Для эффекта - чтоб враги боялись, на каждом углу по легиону.
Теперь о кавалерии: ее доля в легионе постоянно росла с нуля до четверти всего состава. И, абсолютно верно, за счет союзников - патриции воевали отдельно.
Я например, писал о легионах до 200 г.н.э. А после этого (поздняя Империя) легионы вообще разделили на мобильные и пограничные войска. Так в некоторых провинциальных легионах было вообще 1000 человек. Это уже был период затухания Империи, все больше сил уходило на оборону границ. Плюс, добавьте череду смены императоров в результате переворотов. Короче, начинался разброд, шатание и развал. Армия была не та.
Да, книга которой я пользовался, назывется "Греция и Рим. Энциклопедия военной истории." Автор Питер Коннелли.
Да, книга которой я пользовался, назывется "Греция и Рим. Энциклопедия военной истории." Автор Питер Коннелли.
Drakonid
втянувшийся
Korotkov>Я например, писал о легионах до 200 г.н.э. А после этого (поздняя Империя) легионы вообще разделили на мобильные и пограничные войска. Так в некоторых провинциальных легионах было вообще 1000 человек. Это уже был период затухания Империи, все больше сил уходило на оборону границ. Плюс, добавьте череду смены императоров в результате переворотов. Короче, начинался разброд, шатание и развал. Армия была не та.
Korotkov>Да, книга которой я пользовался, назывется "Греция и Рим. Энциклопедия военной истории." Автор Питер Коннелли.
я пользуюсь информацией о Британском легионе, так как просто учусь на факультете англистики. там держали очень большие силы, во время кельтского восстания там держали 2 легиона. один потерпел поражение и даже после поражения его численность составляла 5 тысач человек. второй легион насчитывал 15000 человек. я еще раз перепроверю данные и посмотрю численность в целом по империи. даже когда из британи отозвали последний легионЮ, там было около 10 тыс. чел.
Korotkov>Да, книга которой я пользовался, назывется "Греция и Рим. Энциклопедия военной истории." Автор Питер Коннелли.
я пользуюсь информацией о Британском легионе, так как просто учусь на факультете англистики. там держали очень большие силы, во время кельтского восстания там держали 2 легиона. один потерпел поражение и даже после поражения его численность составляла 5 тысач человек. второй легион насчитывал 15000 человек. я еще раз перепроверю данные и посмотрю численность в целом по империи. даже когда из британи отозвали последний легионЮ, там было около 10 тыс. чел.
Дима>Большое спасибо за ответы! Данные столь изчерпательны, что я совсем запутался
Пиши, если что-то не понятно. Попробуем разобраться вместе. Для того ведь и общаемся и стараемся помочь друг другу. Я тоже в этом вопросе (о легионах) не особенно силен, просто печатаю данные из книги, на которую никак не найду времени, чтобы полностью прочитать, хотя она у меня уже год наверное лежит среди прочих.
Пиши, если что-то не понятно. Попробуем разобраться вместе. Для того ведь и общаемся и стараемся помочь друг другу. Я тоже в этом вопросе (о легионах) не особенно силен, просто печатаю данные из книги, на которую никак не найду времени, чтобы полностью прочитать, хотя она у меня уже год наверное лежит среди прочих.

Интересно, а я слышал - читал, что в римских войсках перед атакой вперед на врага высылались собаки - мастифы. Правда ли это? И, легкие пехотинцы в легионах манипулах это наверное были лучники, пращники, которые после стрельбы из лука, пращи отводились назад за ряды тяжелых воинов. А потом, они, лучники, пращники, что делали - может тоже после вступления в бой тяжелых легионеров, - тоже как-то участвовали дальше в сражениях?
Mag123
новичок
Drakonid> я пользуюсь информацией о Британском легионе, так как просто учусь на факультете англистики. там держали очень большие силы, во время кельтского восстания там держали 2 легиона. один потерпел поражение и даже после поражения его численность составляла 5 тысач человек. второй легион насчитывал 15000 человек. я еще раз перепроверю данные и посмотрю численность в целом по империи. даже когда из британи отозвали последний легионЮ, там было около 10 тыс. чел.
15000 по идее быть не могло
взято с Состав римского легиона там кратко численность и структура легиона расписана
15000 по идее быть не могло
Уже в I веке I когорту легиона увеличили до 800 солдат, а манипулу фактически переименовали в центурию. В результате когорта стала состоять из 5 центурий по 160 солдат в каждой. В результате численность легиона из 10-ти когорт достигала 5,5-6 тысяч человек.
взято с Состав римского легиона там кратко численность и структура легиона расписана


Есть еще одно заблуждение насчет Древнего Рима. А именно: противопоставление патрициев и плебеев.
Оно даже в Вики проникло
Патриции - это люди, имеющие древний род ведущий своё основание к мифологическим героям и богам. Например, Кай наш Юлий Цезарь считался потомком богини Венеры ("Вы, конечно, не Венера, но что то венерическое в Вас есть" © ) Обычно, но не обязательно, это сочеталось с владением большими участками земли.
) Обычно, но не обязательно, это сочеталось с владением большими участками земли.
Плебеи - люди ведущие свой род от основателей Рима, чаще всего от Ромула и Рема. Они вовсе не были бедными и безвластными. Самым богатым человеком Рима за всю его историю считался Марк Крас. Он, вместе с плебеем Гнеем Помпеем (позывной - "Великий") входил с Каем Юлием в Первый Триумвират, осуществлявший в Риме верховную власть (и приведший к Первой Мировой Гражданской войне). Оба были из старинных знатных плебейский родов. Бедняки же, не имеющие собственности, назывались пролетариями Многие (но не все!) пролетарии были плебеями, но далеко не все плебеи - бедняки.
Существовала и третья категория граждан Рима, имеющая непосредственное отношение к данной теме: всадники-эквиты. Это "средний класс" общества Рима. Отличались тем, что приходили на военную службу с собственным оружием и конными. НО! Чисто как кавалерия ТОГДА действовать они не могли -потому как не было ни седел, ни стремян! Т.е. попросту это была мотопехота легионов. Сражались они в пешем строю, в средней линии и сражались оч.хорошо: потому как прибывали к месту битвы менее уставшими и имели лучшие доспехи и оружие. Кроме того, они были гораздо более мобильными и использовались для рейдов и разведок. И их ни в коем случае нельзя путать с туземной кавалерией - германцами и, позднее, с сарматскими катафрактариями, которые и были именно, что кавалерией.
Оно даже в Вики проникло

Патриции - это люди, имеющие древний род ведущий своё основание к мифологическим героям и богам. Например, Кай наш Юлий Цезарь считался потомком богини Венеры ("Вы, конечно, не Венера, но что то венерическое в Вас есть" ©
 ) Обычно, но не обязательно, это сочеталось с владением большими участками земли.
) Обычно, но не обязательно, это сочеталось с владением большими участками земли.Плебеи - люди ведущие свой род от основателей Рима, чаще всего от Ромула и Рема. Они вовсе не были бедными и безвластными. Самым богатым человеком Рима за всю его историю считался Марк Крас. Он, вместе с плебеем Гнеем Помпеем (позывной - "Великий") входил с Каем Юлием в Первый Триумвират, осуществлявший в Риме верховную власть (и приведший к Первой Мировой Гражданской войне). Оба были из старинных знатных плебейский родов. Бедняки же, не имеющие собственности, назывались пролетариями Многие (но не все!) пролетарии были плебеями, но далеко не все плебеи - бедняки.
Существовала и третья категория граждан Рима, имеющая непосредственное отношение к данной теме: всадники-эквиты. Это "средний класс" общества Рима. Отличались тем, что приходили на военную службу с собственным оружием и конными. НО! Чисто как кавалерия ТОГДА действовать они не могли -потому как не было ни седел, ни стремян! Т.е. попросту это была мотопехота легионов. Сражались они в пешем строю, в средней линии и сражались оч.хорошо: потому как прибывали к месту битвы менее уставшими и имели лучшие доспехи и оружие. Кроме того, они были гораздо более мобильными и использовались для рейдов и разведок. И их ни в коем случае нельзя путать с туземной кавалерией - германцами и, позднее, с сарматскими катафрактариями, которые и были именно, что кавалерией.



Лик римской битвы | Организация, тактика, снаряжение | Армии древности —
X Legio 2.0 – Десятый легион. Наиболее полный в российском и русскоязычном интернете источник по широкому спектру военно-технических тем и военно-исторических вопросов, связанных с Древними Грецией и Римом, Византией, государствами средневековой Европы. // xlegio.ruЗаключительная релевантная категория источников состоит из экстраполированных более современных данных. Конечно же, опасно проводить прямые соответствия с много лучше документированными пехотными
столкновениями эпохи огнестрельного оружия поскольку за отстоящие от нашего времени столетия военная технология сильно изменилась. Однако, инстинкты и психологическое напряжение, воздействующее на массовые формации войск в непосредственной близи от строя противника, вряд ли существенно изменились за время, которое является незначительным эпизодом в масштабах эволюции. Некоторые современные исследователи прекрасно использовали последние данные психологии о поведении человека в бою для анализа древней морали. 19 Когда пример человеческого поведения в бою, взятый из древних описаний, совпадает с современным опытом, он пользуется особым доверием и значением – так, взятое в качестве примера описание людей, бегущих с тыла атакованных на Самбре когорт у Цезаря (Caes. BG., II, 25), полностью совпадает с тем, как распадались наполеоновские пехотные колонны – скорее с тыла, нежели с фронта.
Вторая важная характеристика римской пехотной битвы касается понесенных в ней потерь. Кренц изучил статистику потерь для сражений с участием гоплитов и пришел к выводу о том, что победители теряли около 5 процентов, а побежденные около 14 процентов от своего состава. 23 Потери среди побежденных в битвах с участием римской пехоты согласно данным наших источников часто были намного выше – до половины разбитой армии погибало на поле боя или попадало в плен. 24 Так, например, Полибий рассказывает, что в битве при Заме карфагеняне потеряли 20 000 человек убитыми и почти столько же пленными, спастись удалось лишь немногим, при Киноскефалах из 25 500 солдат армии Филиппа 8 000 были убиты и 5 000 взяты в плен (Polyb., XV, 14; XVIII, 27; Liv., XXXIII, 4).
Эти цифры могут содержать вполне объяснимые преувеличения, сделанные победителями, однако различие с предыдущей ситуацией вполне объяснимо исходя из того, что происходило после того, как одна из сторон обращалась в бегство. В столкновении гоплитов победителям, даже если они стремились перебить как можно больше бегущих, было нелегко это сделать из-за тяжелого вооружения (ср. Thuc., V, 73). В ситуации римской битвы разгромленные войска часто оказывались в окружении, из которого они не имели возможности спастись бегством, как при Каннах, в других случаях они подвергались яростному преследованию, в ходе которого безжалостно истреблялись кавалерией противника, как при Пидне или после сражения с Ариовистом (Plut. Aem., 21-22; Caes. BG., I, 53). Множество скульптурных изображений римских всадников, повергающих наземь бегущего противника, наглядно иллюстрирует значимость этого способа закрепления победы (Caes. BG., IV, 26; Ios. BI., III, 13-21).
Более интересной является попытка представить тяжесть потерь победителей в условиях битвы, которая могла продолжаться в течение какого-то промежутка времени прежде чем одна из сторон обращалась в бегство. Иногда эти потери могли быть весьма высоки, как в ставшей нарицательной «Пирровой победе» начала III в. до н.э. (Plut. Pyrrh., XVII, 21), однако это было скорее исключением, нежели правилом. Цифры, которые Полибий дает для сражений Пунических войн, означают, что победитель терял убитыми на поле боя около 5 процентов, т.е. столько же, сколько и победитель в греческом сражении гоплитов (Polyb., I, 34; III, 74; 84-85; 117; IX, 3; XV, 14). 25 В последующих сражениях потери победителей были еще более легкими – лишь 700 убитых при Киноскефалах, 350 при Магнезии, 100 при Пидне, 230 при Фарсале и 1000 при Мунде (Polyb., XVIII, 27; Liv., XXXVII, 44; Plut., Aem., 21; Caes. BC., III, 99; BHisp., 31). Конечно же, эти цифры следует воспринимать с долей скепсиса, а к числу убитых следует прибавить многочисленных раненых, однако общая картина ассиметрии потерь более значительной, нежели во время гоплитских сражений, очевидна.
Один из двух выводов кажется неизбежным – или потери во время боя были преимущественно односторонними поскольку одна из сторон позволяла себя убивать, не оказывая существенного сопротивления, или обе стороны несли примерно одинаковые, ограниченные потери до того как одна из них обращалась в бегство и настоящая опасность, особенно для раненых, складывалась только после того, как проигравшие обращались в бегство. Эти две модели образуют два полюса спектра в разных местах которого располагаются различные сражения.
Из опыта Канн мы знаем, что войска, у которых не было иного выхода кроме как стоять на месте и сражаться, тем не менее могли быть истребляемы без того, чтобы причинить противнику аналогичные потери в ответ, и те из них, которые решались оказать героическое сопротивление, все равно безжалостно истреблялись (Plut. Aem., 21; Caes. BG., II, 27). И наоборот, были случаи, когда потери во время сражения были много более симметричные. В пятичасовом сражении при Илерде когорты Цезаря потеряли 70 человек убитыми и 600 ранеными, что сопоставимо с 200 убитыми и неопределенным числом раненых у помпеянцев (Caes. BC., I, 46). Иосиф описывает длившееся в течение целого дня сражение между сделавшими вылазку из Иотапаты иудеями и римлянами, в котором последние потеряли 13 убитых и множество раненых в то время как на иудейской стороне было 17 убитых и 600 раненых (Ios. BI., III, 150-154). Каков бы ни был баланс потерь в отдельных случаях, очевидно, что даже в ходе наиболее продолжительных сражений, которые велись римской пехотой, обоюдные потери не превышали численности убитых в намного более краткосрочных столкновениях эпохи гоплитов.
Адриан Голдсуорти создал наиболее полный анализ, который содержит два ключевых для нашей темы пункта. 46 Во-первых, он доказывает, что во время рукопашной схватки как минимум три четверти из числа бойцов стоящих во фронте «сражаются больше с целью остаться в живых, нежели с подлинным намерением убить противника». 47 Голдсуорти привлекает материалы исследования американских солдат воевавших во Второй Мировой войне С. Л. А. Маршалла, которое свидетельствует, что во время перестрелки подавляющее большинство солдат или вообще не стреляет или делает лишь несколько неприцельных выстрелов в противника. 48
Существует поразительная параллель между психологической ролью штыковой атаки в условиях современного боя и способом, которым решался исход многих античных сражений, когда атака, предпринятая одной из сторон, при первом же столкновении заставляет противника обратиться в бегство. Столкновения гоплитов были также подчинены подобной закономерности, иногда превращаясь в «бесслезные битвы», когда одна из сторон бежала так быстро, что делала преследование невозможным. 58 Голдсуорти утверждает, что легионеры эпохи поздней республики и ранней империи использовали собственный профессионализм и esprit de corps чтобы посредством общего залпа пилумов и следующей за ним решительной атакой одерживать столь же быстрые победы над менее решительным противником. 59 Это полностью совпадает с аргументом Педди Гриффит, доказывавшего, что дисциплинированная британская пехота в эпоху наполеоновских войн одерживала верх над французами не благодаря успеху продолжительной перестрелки, а лишь посредством одного опустошительного залпа из мушкетов с немедленным переходом в штыковую атаку. 60


Copyright © Balancer 1997..2021
Создано 22.03.2002
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
Создано 22.03.2002
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
 Дима
Дима
 инфо
инфо инструменты
инструменты Korotkov
Korotkov

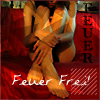
 Drakonid
Drakonid
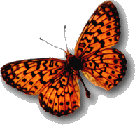


 Bachet
Bachet

 Mag123
Mag123
 Wyvern-2
Wyvern-2


